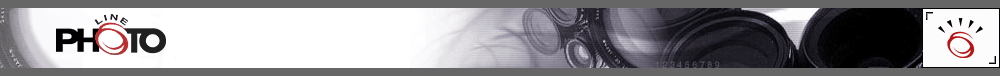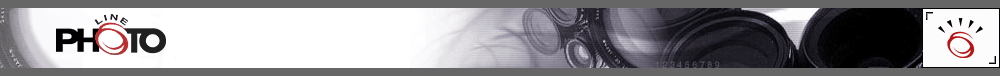Решив написать это маленькое эссе об одном направлении Игоря Громова-Дранкина, я отнюдь не претендую на истину в высшей инстанции.
Мастер такого уровня вообще не нуждается в статьях о своем творчестве. Лучше чужих слов говорят за себя его фотографии.
Просто искусство Громова-Дранкина вызывает во мне столь глубокий отклик, что я не могу удержаться от высказывания… даже не впечатлений, а ассоциированных воспоминаний и мыслей.
Замечательный фотограф живет в чудесном городе.
Самом замечательном и одновременно самом противоречивом городе мира.
Там с середины весны до начала осени практически не спит солнце, радуя глаз сменяющимися видами одного и того же пейзажа. Зато оставшиеся 200 с лишним дней приходится блуждать сквозь туман в промокших насквозь ботинках.
В яркий Петербургский день видно не просто сорок сороков, а неисчислимое количество золотых куполов, шпилей и крыш – сам город изливает от земли ровное золотое сияние, словно найденная невзначай несуществующая страна Эльдорадо.
Но свернув с парадного проспекта, можно попасть в тысячу тысяч каменных дворов-колодцев, на дно которых с момента постройки не проникал солнечный свет, и стены впитали вековую кухонную вонь…
И самое удивительное, оба эти лица суть две стороны одного и того же явления, неотделимые друг от друга.
Пишу об этом так уверенно, поскольку сам я лучшую пору своей жизни – восемь лет перед вратами начинавшейся молодости – провел в этом городе. И он остался для меня не точкой на карте, а некоторым пунктом отсчета не слишком счастливой, но богатой биографии.
Игорь Громов-Дранкинъ каждой своей фотографией Петербургского цикла заставляет звенеть потаенные струны моей не в меру чувствительной души.
Хочу отметить, что быть певцом Ленинграда-Петербурга – занятие очень непростое и даже не самое благодарное.
Ведь этот город со дня основания служил натурой для бесчисленных живописцев.
И разумеется, с развитием более доступного и, если можно так выразиться, более оперативного искусства – светописи, то есть фотографии – городские пейзажи Петербурга стали одной из самых излюбленных (как и самых легких, на первый взгляд) тем.
Каюсь, в юности я успел испробовать едва ли не все возможные виды искусств, лишь ко второй половине жизни определив свое место в русле словесности.
В Ленинградский период – длившийся с 1976 по 1985 годы – я в основном занимался живописью.
Сам великий город принуждал взяться за кисти. В его глубокой художественности, в наполненности искусствами счастливо сочетались ежедневные походы в Эрмитаж или Академию художеств и самостоятельные опыты. Которые почти никогда не приносили удовлетворения, поскольку стоило обратиться к какой-либо натуре, как становилось очевидным, что это уже фиксировал до меня кто-то другой. Причем даже не соотношение талантов казалось важным - угнетала априорная вторичность всего, за что я ни брался.
Но все-таки свою тему я нашел.
Моим самыми любимыми и удачными объектами стали не храмы, не набережные. И даже не парки.
А… проходные дворы. Да - темные, грязные, восхитительно воняющие Ленинградские колодцы.
Наверное, на выбор повлияло и то, что в те годы я жил в доме No 15 по улице Конной – в сердце каменных трущоб Старо-Невского, строившихся для Петербургской нищеты.
Дворы казались отвратительными, но имели невероятную притягательность.
И у меня пошла серия рисунков – карандаш, соус, акварель…
Сейчас тема не покажется из ряда вон выходящей ни для художника, ни для фотографа. Но тогда… Тогда над нами витали иные времена. В искусстве – в любом искусстве, от балета до архитектуры ! - правил метод социалистического реализма, допускавший лишь один вид противоречия: конфликт хорошего с отличным.
В городском пейзаже общепринятыми считались красоты. Разруха допускалась лишь касательно минувшей войны. А уж смакование проходных дворов – изнанки социалистического города – сразу получило бы ярлык очернительства с тяжкими последствиями для автора.
Я, разумеется, не был профессиональным художником; работы выставлял на некоторых – как бы сейчас сказали, «корпоративных» - выставках. Где не грозила тень идеологической критики и дворы шли на ура. Кто-то, помнится, даже заказывал для себя варианты понравившейся акварели.
И вот тогда, еще не задумываясь над терминами, а просто пытаясь преломить мир через свой взгляд, я понял, что имеет право на жизнь направление в искусстве, имя которого составлено из исключающих друг друга слов:
ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО.
Внутренняя гармония, самодостаточность и зрительная экспрессия натуры, не наделенной ни одним из атрибутов безусловного эстетического образца.
Гармония совершенного антисовершенства – можно сказать так.
В общем ничего особенно нового мне в голову не пришло. Именно эта гармония антисовершенства побуждала великих художников прошлого живописать всевозможные руины.
Хотя эстетика ленинградских дворов отличается в корне: руины мертвы; время сгладило углы и выветрило запахи, засеяло обломки цветами и привело все к законченному виду. А дворы – не развалины, а место жительства живых людей, которые, как ни странно, могут существовать в темных каменных сотах.
Вернувшись после учебы в родной город, я сильно тосковал по Ленинграду.
Причем надо признаться, едва ли ни больше всех мучила меня нехватка именно этих, ужасных на сторонний взгляд проходных дворов.
Которых, - я могу поклясться - нет больше нигде в целом мире. Подобными не может гордиться ни один другой город – ни большой, ни маленький; будь это хоть дочиста вылизанный Таллинн, хоть раскинувшийся одной гигантской помойкой Каир…
Проходные дворы – атрибут. Не просто атрибут… символ Ленинграда-Петербурга. Такой же неотъемлемый, как золотой кораблик Адмиралтейства. Или двусмысленный свиток в бронзовой руке Барклая-де-Толли, стоящего на краю наркоманского скверика перед Казанским собором.
И я не могу передать словами радость и растроганность от нахлынувших воспоминаний, когда я впервые – совершенно случайно – познакомился с работами Игоря Громова-Дранкина.
(Нет, конечно. Слова о «случайности» - простое лукавство. Велик размах Фотолайна, но в общей массе складываются небольшие кружки людей, которых можно назвать близкими… Разумеется, я имею в виду близость не по уровню: с Громовым-Дранкиным вообще мало кто сможет сравниться. И даже не по эстетическим воззрениями – по чему-то трудно уловимому, неосознанно роднящему души и ведущему к взаимному вниманию. Это тонкое ощущение кажется мне самым важным. Хотя если судить объективно, отгородясь от эмоций, то мастера такого масштаба, как Игорь Громов-Дранкинъ, нельзя не выделить даже среди чудовищного разнообразия нашего сайта. Как нельзя, бродя по изумительно цветущему лугу на холмистой равнине, сдобренной перелесками, рано или поздно не увидеть настоящую горную вершину, сияющую над туманной синевой горизонта.)
Открыв для себя Громова-Дранкина, я поразился одновременно и глубине и размаху его творчества.
Но я пишу не детальный обзор; это потребовало бы целой книги.
Я хочу сказать несколько слов только о его Петербурге. Еще точнее, о наиболее близкому моему сердцу - о Петербургских дворах.
Кто-то может удивиться, кто-то упрекнуть в том, что из всех городских пейзажей я ограничиваюсь сомнительной на взгляд эстета темой.
Оппоненту отвечу: парадный Петербург Игоря Громова-Дранкина несравнен. Он завораживает, он наполняет душу красотой. Он дарит мне снова мой любимый до слез, хоть и утраченный город. Ракурсы и тональные решения и неожиданные взгляды Игоря Громова-Дранкина поражают даже меня, знавшего Ленинград как свою ладонь и до сих пор шагающего по его улицам в светлых снах.
Но об этом Петербурге любой – или почти любой – напишет лучше и полнее.
А я смотрю на дворы и упиваюсь эстетикой безобразного. Той самой, которую я открыл для себя давным-давно – и какую мастер подарил спустя десятилетия.
Дворы Игоря Громова-Дранкина сняты истинным петербуржцем – и понятны любому петербуржцу. Равно как и любому ленинградцу, пусть даже прошлому.
Каждая великолепно схваченная деталь – которая является одним из мощнейших инструментов фотографа – доносит до нас и фактуру и свет и настроение.
Эти облупленные, некогда выкрашенные дешевейшей желтоватой известкой, а ныне почерневшие стены.
Не просто неописуемо грязные, исписанные различными словами, заплеванные и закопченные, но еще покрытые зеленым мхом по цоколям, заливаемым водой из проржавевших и обрушившихся водосточных труб.
Эти чудовищные, завораживающие своей жутью наружные лифтовые шахты – каких тоже нельзя найти ни в одном другом городе.
Ведь дома, служащие натурой мастеру, построены во времена, когда не существовало самого понятия «лифт».
И когда это средство комфорта стало входить в российский быт, то для дешевых каменных клеток технический вопрос решался просто. На площадках прорубались сквозные проемы на улицу, лифтовая кабина ходила снаружи, прикрытая от крыши до земли застекленным коробом. Примерно век спустя нечто отдаленно схожее сделалось эстетическим образцом для бизнес-центров.
Выбитые стекла давно не ремонтированных шахт сочетаются с проплешинами штукатурки на стенах.
Появившимися отнюдь не случайно, а оббитыми для выяснения состояния кирпичной кладки в нижней, самой нагруженной части. Ведь при капитальном ремонте старых кварталов дома подвергаются реконструкции в различной степени. И не всегда улучшение становится оптимальным.
(Помню, когда снесли старый дом, составлявший одну из сторон дворового колодца, где я жил, то начал медленно рушиться дом напротив. Лишенная опоры, поползла стена, и ее лихорадочно крепили железными стяжками…)
Многослойный разбитый асфальт, дворы, дома, стены и окна, подчеркивающие разные уровни этажей соединенных зданий, криво торчащие люки, изломы крыш, грязные углы подворотен…
И люди… Люди, люди, скользящие, как призраки, в миазмах разлагающихся мусорных куч.
Этот Петербург оживает на фотографиях Игоря Громова-Дранкина и смотрит на меня, как тридцать лет назад.
И вызывает внезапную мысль.
Капитальный ремонт северной столицы постепенно тянется уже лет сорок. Становясь все более радикальным.
Еще во времена моего аспиранства в Ленинграде попадались частицы давно ушедшего времени.
Можно было войти в подъезд какого-нибудь дома – заплеванный и провонявший кошками – и в обычной лестничной форточке обнаружить дореволюционную, идеально зашлифованную алмазную грань. То есть фаску, снятую с толстого стекла по периметру уже после вырезки размера – такую отделку сейчас встретить не в каждом мебельном гарнитуре даже из дорогих.
Но когда я посетил Петербург после двадцатилетнего отсутствия, то поразился переменам. Город стал неузнаваемым, из него выветрился неповторимый петербургский колорит, чахоточный шарм жилых кварталов. Стало, конечно, чище, светлее, комфортнее, но… усредненнее.
И можно полагать, что если все пойдет в том же направлении и теми же темпами, то лет через 10-15 Петербург исчезнет как многогранный памятник. А сделается таким же зализанным, вымощенным гнусной турецкой брусчаткой из цемента, как любой современный европейский город.
Недавно, в очередной раз узнав от друзей, что Дрезден отстроен заново, я поднял архивы, нашел свои бумажные фотки и сделал серию «Умерший рай». Думая при этом, что представляю одно из уходящих свидетельств о руинах, бывших атрибутом немецких городов после окончания войны.
А сейчас, глядя на фотографии Игоря Громова-Дранкина, я с особой остротой понимаю, что пройдет немного – и его снимки останутся последним воспоминанием о Петербурге проходных дворов.
Возможно, они станут вовсе непонятны зрителям будущих времен.
Когда эстетика безобразного уйдет со сцены, вытесненная всеобъемлющей масс-культурой безликого.
И мне хочется низко поклониться мастеру, запечатлевшему все это хотя бы для нас, живших и понимавших изображенное…
(
ссылка)