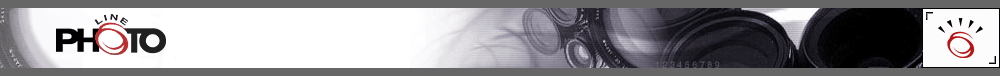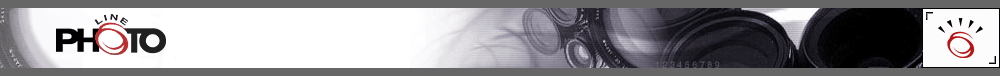|
Два года назад Главный "Комсомолки" пригласил, как был на коляске, в Москву. Спланировано прощание с корридорами Шестого этажа, с редакционым людом,с нилучшим другом Ярославом.
1 мая, акурат на Пасху,после Заутрени, квалькадой
отправились в Переделкино, где после ряда женитьб,уеденился с комьютером Голванов.Пили у камина, утирая слезы с примесью, извините,соплей.
Май начинался простудными холодами...Прощясь дал
Славке слово, постраться успеть изложить на бумаге байки из наших одиссей.
А вскоре пришла страшная весть: Голованова не
стало...
Меня включили в число сочинителей некролога.
Соболезновал газете презедент Путин.
В моей записной книжке, пока жив,живет телефон
Славы. Мы перезваниваемся...
Только не смейтесь. Недели две мы искали снежного человека. Того самого, что зовется Йети. Искали с другом Ярославом Головановым. Была у нас неплохая поддержка – экспедиция профессора Поршнева и ребята из Среднеазиатского
пограничного округа. Театром действий стали поднебесные снеговики Памира и Тянь-Шаня. Собственно, выше трех- четырех тысяч мы не забирались. Выше только орлы живут, да и то летом. Скажу по правде, шумный научно-воинский поиск с кострами бивуаков и песнями мало соответствовал представлениям о образе жизни мохнатого индивида. И потому уже вскоре мы со Славой, пользуясь иммунитетом и авторитетом «Комсомолки», получив «газик» с двумя автоматчиками под командой бравого лейтенанта, отправились в самостоятельный поиск. Скажу прямо, что несмотря на наше горячее желание быть принятыми в Королевское географическое общество Великобритании,
господин Йети не являл свой лик. Может быть к лучшему, потому что проехали, прошли, проползли всю трудную дорогу от Заиссыккулья до Торугарта на китайской границе, и повидали столько такого! О чём целый месяц отчитывались на страницах «Комсомолки». Гдето в пути и произошел
курьёзный случай…
-« Знаешь, Слава, одышка давит, стареть стал»,- заявил я однажды, надевая на плечи вдруг потяжелевший рюкзак. Ярослав горячо посочувствовал моим причитаниям. А тут, откуда не возьмись, по рукаву ледника бредут горные козы. Я в рюкзак, за аппаратурой, а там на дне в газетке буровая коронка. Железяка – килограммов на пять. Матерюсь, но тут уж не до обид. Пока настраивался, да налаживал технику, козы пустились наутёк. Они словно на лыжах мчались вниз, поднимая вихри снежной пыли. Последняя пара и прозвучала мотивом снимка «Свадебный марш Мендельсона». Скромная компенсация за несостоявшийся портрет Йети.
Со Славкой я целых два часа не разговаривал - обижался.
«Мясо без костей не бывает» - заявляли, категорично, рубщики-продавцы из Всесоюзно - известного Елисеевского гастронома. А кости без мяса бывают?
Множество прономерованных черепов стояли на полках квартиры Мих. Миха.
Герасимова. Эдакого Карлсона с лицом и руками Кола Брюньона. Не достигший академических титулов, Герасимов сделал для науки неизмеримо больше иных академиков…Он изобрел и внедрил уникальное направление, или вид науки, сомкнувший знания археолога, антрополога, анатома с талантом
скульптора. А для сыщиков без художественных наклонностей, были инструкции, чертежи и схемы. В любом краеведческом музее страны обязательно наличествует приплюснутая «физия» неодертальца и кудлатая башка кроманьольца - наших замечательных предков, воссозданных Мих. Михом. В Самарканде, он «втихую» вскрыл могилы венценосного астронома Улугбека и потомка Чингизхана - Тамерлана. Конечно с последним Мих. Мих. поторопился. Старики утверждали: -Тот, кто прикоснется к Тамерлану - накличет войну. Шел сорок первый год. Легенда оказалась явью.
Осенью 1968 года, когда Ярослав со мной был зван к Герасимову, не многие знали о постоянных заданиях МВД и КГБ, которые выполнял Мих. Мих. Работа над реконструкцией облика обычно велась «втемную». Если имелась фотографии, возможного «хозяина» черепа, Мих. Мих. отказывался на них смотреть. Главным секретом или, попросту, жгучей тайной ученого скульптора, был разговор на Лубянке с генералом в цивильном костюме. Тот долго молчал, вглядываясь в руки Мих. Миха. За тем выложил из сейфа череп пожилого человека. Зубы в пломбах, коронки… Сказал:
- Из кабинета не выходить. Работайте.
Понадобились считанные часы уединения с черепом, чтобы Мих. Мих. попросил отметить ему пропуск. Генерал удивился: -А где рисунок? .
Герасимов помялся: - По всей вероятности в моей методе сбой.
Похоже, что это череп самого фюрера.
У визита продолжения не было, тайные информаторы «Комсомолки»
намекнули, что молва гебешной среды, объясняла причину разговора, конца сороковых годов, желанием «Виссарионыча» украсить письменный стол черепом поверженного врага.
Последними значительными работами Мих. Миха. явились образы царя Иоана Грозного и ныне канонизированного православного святого, адмирала Ушакова.
Нынешнее поколение знает: «Уинстон»- сигареты не для бедных. Те, кто постарше помнят, что кроме сигарет, видимо, названых в честь завзятого любителя гаванских сигар и армянского коньяка, сэра Уинстона Леонарда Спенсора Черчиля, был ещё и Генри Уинстон, только не сэр, а товарищ. В энциклопедиях сказано, что тов. Уинстон - деятель американского и международного коммунистического движения. Почетный секретарь компартии США. Сказано так же, что в результате длительных отсидок тов. Генри теряет зрение. Не смотря на прогрессирующий недуг тов. Генри, был завсегдатаем президиумов съездов КПСС. В порядке исключения, рядом с мужем всегда находилась верная супруга - улыбчивая бабуся в ореоле промытых синькой кудельков. Великана Генри она трогательно водила за руку, являя пример дружбы народов, невзирая на цвет кожи и различие вероисповеданий. Их объединяла любовь и вера в царство коммунизма на всем земном шаре и его окрестностях. После очередного подлечивания в «Кремлёвке» американскую чету поместили в Переделкинский отстойник, для престарелых лидеров коммдвижения. Генри, как и подобает американцу лихо стучал на машинке. Вконец ослепнув, он спешил «добить» свои мемуары.
А рядом жена вязала мохеровую кофту. Вот таким мы увидели добряка Генри за каменным забором Переделкино. Примчала нас редакционная «Волга» с сюрпризом, который мой напарник, международник Серега Голяков, несмотря на давнее знакомство с Генри, не знал, как преподнести. Комсомолка Роза Шафигуллина, кажется уроженка Башкирии или Сызрани, начитавшись газет,
очень жалостливо повествующих о нелегкой судьбе товарища Генри и его железной воле трибуна, пришла в «Комсомолку» с категорическим решением подарить ему свой глаз. По большевикам пошло рыдание! Не знаю проверялась ли возможность такой операции, но героиню срочно изолировали, дабы весть о её подвиге не утекла в руководящую «Правду», а паче того в аджубеевские «Известия». Поначалу тов. Генри онемел, затем прослезился. Жена, мудрая еврейка, уронила клубок и растерянно пыталась его выловить за импортную нитку. Потом уронив спицы и, поманив Сергея в предбанник номера, шепотом попросила:
-«Оставить большевистские штучки» и не морочить слепцу голову.
Пусть уж остаётся как есть…
Плановали, строили, даже реки замахивались повернуть вспять. Как лучше хотели…А получалось всяко. По разному получалось. Одной из самых сложных, но толковых строек стали гидростанции Нарынского каскада.
Сама по себе Нарын- река не большая, но строптива донельзя, да и протекает в таких труднодоступных ущельях и каньонах, что пришлось необычные профессии выдумывать и внедрять в боевую строительную практику. Именно в поселке Токтогул главный инженер Толкачёв с благословения начальника строительства Эренбурга, сформировал отряд скалолазов - буровиков и бульдозеристов, поставил на службу созидания сто миллиметровые гаубицы.
Скалолазы первыми переправлялись через бушующий Нарын, точечными взрывами отвоевывали у скал крохотные площадки-уступы. Крепили тросы и на них перетягивали бульдозеры. Тяжеленные машины, буквально из под себя выковыривали камни, медленно, но верно расширяли площадку. Артиллеристы
по наводке и корректировке альпинистов, меткими залпами сбивали скальные козырьки и, образуя искусственный камнепад, обеспечивали технику безопасности строителей. Эренбург и Толкачёв, воспитанники московского «Гидропроэкта», в далёкой Киргизии, да и вообще среди строителей гидростанций, имели непререкаемый авторитет. Как говорится - их каждодневный подвиг Родиной был замечен и высоко оценен. Эренбургу, кроме орденов, вручили Золотую звезду героя, а Лене Толкачёву последовательно достались пять высших орденов страны.
Однажды Эренбург ехал на пленум Ошского обкома партии, верст за двести от Токтогульской ГЭС. Как раз на полпути, заскочили чайку попить в доме у шофёра. Тут и был предложен злочастный коньяк. Непьющий Эренбург увидел две бутылки отборного киргизского. Початую и новую.
-« Нет, нет, не открывай. Мне и рюмашки хватит…»
Хватило рюмки, чтобы у здоровяка Эренбурга через полчаса остановилось сердце. Когда-то в бутылку был налит сильнейший крысиный яд, а жена шофера случайно поставила бутылку в буфет…
Леня Толкачёв почти закончил строительство каскада, когда соблазнился предложением министра - возглавить необычную стройку в подмосковном Загорске. Там было решено на ровном месте создать первую в СССР, очень мощную гидроаккумулирующую станцию. Проект лопнул. Леня с досады пошел преподавать в строительный институт. Там его, привыкшего к громадью Тянь-Шаня и грохоту горных потоков, прижал рутинный паралич. Недавний горный орёл, автор уникальной плотины «Токтогул» и всемирно принятого метода укладки бетона, дружище Толкач еле ползает по квартире в Замоскворечье. Прижав к не знающему возраста сердцу онемевшую руку, слабеющим умом с трудом помогает внуку решать школьные задачки по арифметике.
О Казани могу писать много и все, в общем, хорошее. Мало того, что лет пять там служил, но и ездил в командировки раз сто. И дело не в том, что привечали с татарским гостеприимством. Казань- город интеллигентный со старой русской культурой - грязный, но симпатичный. Да еще стройка началась не бывалая - КамАз, завод - заводов. Гигант автомобилестроения. В газете вел рубрику со строительства. Всё там было подстать размерам: широта характеров, рост цехов, перепаханные дороги, количество добровольцев, грибы в окрестных шишкинских борах, рыбалка. И даже, постоянно нарушаемый, сухой закон.
Скажу честно, что абсолютное количество увлеченных своим делом людей я встретил именно на Каме. Встретил Волю Баруна, шестилетнего соседа по квартире в киевском доме - Главного конструктора камского большегруза. Был на ты со строителями, испытателями, с директором Автозавода Николаем Бехом. Именно там я окончательно почувствовал себя не винтиком, не шплинтом, а нужным людям журналистом. «Комсомолку» на Каме встречали на ура. Кончилась камская эпопея лучшим в стране большегрузом, а я примкнул к шести цековцам, руководящего звена, в Георгиевском зале, где из рук Георгадзе получил медаль. Пока жив, буду утверждать:
-«Комсомольский задор был, и лишения молодые, переносили не зря!».
Звонит телефон:
-« Телеграмму примите! Поздравляем сорокалетием. Целуем. Новгородочкин.»
От такого текста, как говорилось:
-«По большевикам пошло рыдание».
Сегодня по телефону, а завтра домой доставят. Будет жене веселье!
Да и, что за Новгородочкин целует коллективо? Не скажу, чтобы не пилось, но между стопарями думалось…А поутру звонок в редакцию от Люси и Дуси.
Замечательные девчата Новгородочки. Наверное с той поры, когда Господин Великий Новгород провожал своих сынов на лёд Чудского озера, научились здешние бабы мужескую работу творить. В новгородском кремле-Детинце сооружен памятник тысячелетию России. Исстари здесь умеют лихо воевать, складно работать, да и праздники широки у новгородцев. Рядом с главной башней Кремля дан старт соревнований досаафовцев. На мужеском мотористалище побеждают Люся и Дуся. А назавтра ближе всех к центру круга приземляются парашютистки Люся и Дуся.
Льёт дождь- стеной стоят хляби небесные. Вылет рейса Новгород – Быково отложен на завтра. Я тоскую у исполосованного дождём окна, тщетно пытаюсь наладить телевизор. Звонит телефон. Говорят Новгородочки…Назавтра чуть свет к самолёту меня провожает Люся.
Долина гейзеров, среди вечных снегов Тянь-Шаня - рай для
сусликов. С рассвета до темна они выныривают из своих нор, навстречу солнцу: ищут пищу, резвятся, красуются друг перед другом. Чуть почуяв опасность или просто от любопытства, замирают стоя на задних лапках.
Кажется вот-вот готовы бросится в объятия человеку, чтобы выполнить любую прихоть пришельца. Да не тут то было. Негромко свистнув, суслики опрометью ныряют каждый в свою нору…
И нет больше рыжих столбиков, таращащих любопытные глазёнки.
Разочарованно пускаюсь в обратный путь. Топчусь по немыслимой грязище, напитанной сероводородным «духом». Через несколько шагов оборачиваюсь и вижу снова: те же глаза, те же поджатые в стойке лапки - тех же, вытянувшихся по стойке смирно, сусликов. Я даже рад не состоявшейся охоте. Но для подержания охотничьего авторитета, бормочу что-то о несоответствии калибра автомата Калашникова, такой мелкой дичи. Мол не стрелял потому, что шкурку боялся испортить. Славка все понимает и подмигивает «старлею» - пограничнику:
-Налей охотнику, для укрепления руки и зоркости глаза…
«Со стапеля в высь»-так назывался репортаж с Воронежского Авиазавода.
Мне довелось впервые вскрыть завесу над проектом КБ Туполева. Самолёт ТУ-144 был задуман и осуществлен в пику франко- английскому «Конкорду».
Россия – родина слонов! Мы, как всегда, должны были прокукарекать первыми.
Догнать и перегнать скорость звука. Уйти в сверхзвук и смотаться по маршруту Москва - Алма-Ата за три лётных часа. Этот снимок я сделал загодя до посещения завода и сам того ведая, влетел в большую политику. Модель в одну треть натуральной величины «обдували» в ЦАГИ. В Кратово обдували, а в Воронеже уже строили. Кратовским режимщиком оказался мой однополчанин, Миша Блиновский. В 1945 старшина, теперь полковник. Так-что подписку о неразглашении мы хорошо обмыли с чёрной икрой. Коллеги фоторепортёры ногти грызли на репортажи, а уж если бы про икру дознались… Первую машину поднимал в воздух испытатель Козлов. Как долетел до Москвы сам не знает. На время взлета, жителей заводского посёлка эвакуировали. Я познакомился с Козловым в заводской летной столовой и поздравил маститого пилота с Золотой Звездой Героя. Через год на авиасолоне Ле Бурже гордость нашей авиации потеряла престиж. Какой -то авиапромовский чин потребовал от Козлова снизится до минимума и тем потрясти французов. Машина рухнула на дома, французы « в штаны не наложили»: Козлова , экипаж и министерского балбеса хоронили с воинскими почастями. Россия возместила ущерб. Сто сорок четвертый в серию не пошёл.
Помните, как у Утесова поётся :- «Ведь ты моряк Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда…» Яшка не Мишка но моряк на все сто. Соленый боец морской пехоты. Той, что с рыбачьих баркасов в Новорссийске высаживалась.
Встретил я Петра и Якова на боту сторожевика в Цемесской бухте. Было это давно, когда бровастый Леонид всяко себя чтил мастером Золотых звезд – главным героем Малой земли.
В память о погибших воинах – Новороссийцах, вплавь, пускали венки. Пётр и Яков уже успели поддать и, пригорюнившись смотрели вслед венкам.
-«Воевали на Малой. Небось и комиссара Брежнева высаживали?»
Ответ по тем временам ошеломил:
- « Воевать, воевали, а вот слыхать или видеть- Боже упаси!
Пётр заботливо заправил за пояс, болтавшийся на ветру пустой рукав форменки Якова. Бескозыркой прикрыл бутылку «белой».
-Держи плошку Янкель. Помянем с «Комсомолкой», видать и корреспондент фронтовик! От «белой», без закуси, развязались языки. В тысячный раз рассказанный эпизод ночной разведки смешил бывалых мужиков:
-« Темень была, а немец заметил - Якова, как шарахнет! Ребята
подхватили его и автомат. Яшка сгоряча умудряется:
-Руку ищите, без руки я куда?»
Бессменная «кадра» Ирина Ивановна Троицкая, не долго приглядывалась ко мне. Очень скоро она кооптировала себя, в добрые гении Илюши. Я знал, что ей не легко, потому, что в «Датском королевстве» было много неясного, путанного - каждый пропуск на очередной съезд, милой Ироиде давали нехотя,
потому он и мне доставался, как подарок. Многие лета и зимы меня посылали на «мероприятия» - замечаний не было. « Комсомолку» везде любили, а корреспондентов холили. Капитан из кремлевских гебистов, Нина Ивановна, узнав, что я опоздал пробраться в бюро пропусков, сама пустилась бегом через площадь. Пропуск на парад двадцатилетия Победы получен. В снимке, сделавшем мне и газете «погоду», капитан Нина соавтор.
Как объезжают лошадей в Монголии, уверен, даже завсегдатаи Тель-авивского ресторана «Улан-Батор» во снах не видели.
Южно - Гобийский аймак. Весна.У источника под сопкой еще зеленеют райские кущи. Медовым цветом благоухает степь. В травяном ковре тонет топот копыт. Лувсаншарав и Длгосурен, перепоясав кушаками зеленый атлас халатов, прыгают в сёдла. С шестами арканов на перевес, араты врезаются в пасущейся табун. Коньки-горбунки отродясь не ведают ни кнута, ни крика.
С перепугу табун сбивается в плотную самодвижущую массу. Бьют копытами, ржут, хрипят кони - рвутся в степь, подальше от кентавров.
В сумятице скачки от табуна отделяются тандемы - всадник, а впереди, роняя клочья пены, заарканенная трехлетка…Дальше лишь дело техники отработанной с до чингизхановских времен. Пойманную лошадку взнуздывают сыромятной упряжью, подпругой крепят подушку седла. Местный джигит ставит ногу в стремя. Влипнув в седло Лувсаншарав, пускает гривастого
конька волчьим наметом в степь. Скачки, дыбы, галоп…и через пол часа свободолюбивый потомок лошади Пржевальского трусит к нам, навсегда подчинившись человеческой воле. Вот так бы строптивых жен укрощать, Шекспировских! Шутка конечно. Кони низкорослые, гривастые, коньки-горбунки, монгольской породы…Это они вместе с хозяевами создавшие империю-ханство в пол света, ныне совершенно беззлобно преодолев коммунистические соблазны, ведомые враз прозревшими лувсаншаравами и долгосуренами, бодро скачут в современный разумный капитализм. Вот так объезжают коней в Монголии.
БМРТ «Пушкин»- головной в серии писателей, на Джоржес - банке богатым уловом наморзит полные трюмы. Здесь же на траверзе Нью – Иорка, перевалит рыбу в чрево рефрижератора и отвалит к югу «по нототению», за которую регулярно поднимает рюмаху одессит, капитан Семёнов. Я живу на верхней палубе в медпункте, рядом с радиорубкой. За норвежским островом Медвежий
качает уже не по – Баренцевоморски. Зимняя Атлантика зла, хоть проси радиста дать SOS. Я предпочитаю давать за борт завтраки и обеды чайкам. Ужин остаётся со мной – белокрылые спиртного не потребляют, да и вечерний коньяк с капитаном, лучшее средство от качки. На двенадцатый день зыби экран локатора высвечивает абрис американских берегов. Снимаю два-три полных трала на слипе и палубе, делаю круг почета, на камовской стрекозе, над судами и бай-бай «загранзаплывщики»: русские, немцы, англичане, чилийцы, японцы, турки…Печально визжат несмазанные кильблоки. На талях меня опускают в шлюпке прямо под гору волны. На СРТ до Мурманска дольше, но болтает меньше. Через год я снова упросил редколлегию отпустить в моря. Теперь за нототенией. В рыбном министерстве мня остудили:
-«Ты за синей рыбкой не гонись, теперь она золотая. Не ловится нототения. Разбежалась».
Собралось судов видимо-невидимо, капитаны все ухорезы, на манер Семёнова.
Давай наперегонки «брать большие тонны». Рыбьи головы потроха не на муку в печки-сушилки, а за борт. Глубина там огромная, на дне образовалась гниль, вот и разбежались косяки деликатной нототении по океану. С закопёрщика Семёнова орден Ленина сняли, а самого пересадили на малое каботажное судно.
Жадность фраейра сгубила. А жаль мужик весёлый и куда, как гостеприимный…
Мне понадобилось съездов тридцать «осветить», чтобы вконец почувствовать, понять - на трибуне съездюки, а зале сидят съездуны. Мы же обслуга – просто осветители. Этот снимок - торжественный момент из светско - советской жизни
президиума съезда ВЛКСМ. Уже не помню, которого по счету, но состоявшегося, месяцев через пяток, после трагических событий на острове Даманском. Это, когда коммунисты - коммунистов били по мордам. Километр суши не поделили и перестрелялись! Именно на этом съезде шибко престарелый кавалерист, Семен Буденный передал свою боевую шашку Ленинскому комсомолу. От имени и по поручению, принимал режущий и рубящий инструмент, армейский сержант, единственный в мирное время кавалер ордена Славы. Подсоблял сержанту первый секретарь комсомола, известный своим пристрастием к вылизыванию задов начальства и «голубоватыми» наклонностями, челябинский демогог - Тяжельников. Среди,
преисполненных важностью момента статистов, будущий «герой» ГКЧП - латыш Пуго, тот самый, что пустил пулю в жену и себя, а так же неудавшийся властитель Азербайджана Визиров.
Шашка, как выяснилось вскоре, Буденному не принадлежала. Накануне её заимствовали в замшелом арсенале музея Советской Армии. После съезда шашку поместили в «предбанник» кабинета первого секретаря комсомола, под стекло, рядом с орденами и, предположительно, буденовкой самого Павки Корчагина - читай Николая Островского.
|