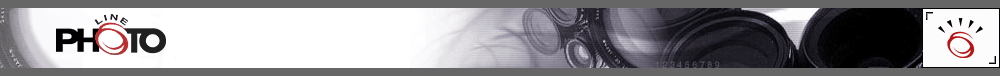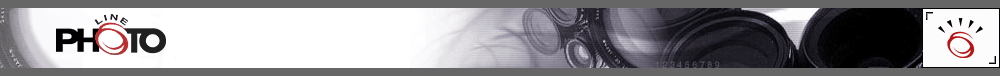|
Думал ли я, что в родную Москву придется в командировку ездить? Всегда хоть на минуту заскакиваю на Лубянку- постоять у гранитного валуна, положить цветок на холодный камень. Справа от известного дома Лубянки теперь его законное место. Нет железного Феликса - есть Соловецкий камень, и на нем всегда цветы, в печальную память о первом на земле концентрационном лагере, рожденном революцией. В память о миллионах увезенных в ночных «воронках», в телячьих теплушках…В память о миллионах не вернувшихся домой. В память о миллионах не родившихся русских, украинцев, евреев, грузин, казахов…
Так ли важно теперь знать, в чьем именно воспаленном мозгу – Ленина или Дзержинского, Троцкого или Свердлова – возникла идея исправления отцов, матерей, братьев лагерями? Авторское право коммунизма и так бесспорно даже гитлеровцы не стали его оспаривать в своих комбинатах смерти.
А начиналось всё с Соловков – крохотного островного архипелага рядом с Беломорской Онежской губой. История полна парадоксов- монастырь, основанный в шестнадцатом – семнадцатых веках, прибежище людей не принявших никонианства, гостеприимно укрывший беглых повстанцев Степана Разина, в начале двадцатых годов стал Всесоюзной костоломкой. Говорят, что
за все годы Соловецких островных лагерей на десятки тысяч заключенных пришелся только один удачный побег. Кавказец - не то чеченец, не то ингуш – совершил чудо, подобно Монте - Кристо, и, претерпев множество страданий и приключений оказался в Финляндии, а потом в Швеции…
Я побывал на островах, когда время застыло на распутье. Сталинские лагеря кончились, а священников ещё сюда не пускали. Коротким бессонным летом к островкам причалил теплоходик с шумным студенческим народцем. Парни и
девчата в форме студотрядов, под командой ленинградских архитекторов, реставрировали, как могли, монастырь, собор, трапезную…О недавних концлагерях и тогда вслух не говорилось. Но, казалось белыми ночами к студенческим кострам приходили тени. Они слушали песни и, глядя на весёлое пламя, радовались, что прошлое не повторится…
Мороз знатный, хоть из дома не выходи. Но разве пропустишь подлёдный лов сетями - чудо на Чудском озере? Сложившись вдвое, втискиваюсь четвертым в крестьянские розвальни и, чуть высунув отмерзший нос, вдыхаю, словно из небесной трубы, чистейший кислород. Скрипкой поют полозья. От полушарий конских боков валит пар. В такт бегу повизгивает пёс Шарик, от распирающего душу счастья и острых снежинок ему смешно и больно. За полчаса езды берег скрылся в утреннем морозном мареве. Мужики всматриваются в даль – ищут на льду только им знакомые заметки. Останавливаемся. Рыбаки пешнями пробивают в лунках намерзший ледок. Шумовкой вычерпывают ледяную окрошку. Расходятся по вешкам. И тут начинается чудо - явление на свет Божий застрявших в ячеях сети: судаков, лещей, щук, язей…Рыбу раскладывают по круглым ивовым корзинам. Что покрупней – себе, поменьше – в колхоз и городскому начальству. Зимнее солонце хоть и холодное, а чуток уже пригревает. На обратном пути как-то теплее. Наверное от реальной перспективы
горячей ухи и чарки, что к ней непременно приложится…
В первый год целины зерна собрали столько, что и девать то было некуда.
С пьяна ли, с мороза ли излишки ссыпали прямо на речной лед. Февральские вьюги замели брезентину, и всё уплыло на радость или на горе рыбам. Под крылом АН-2 самая целинная целина – Кулундинская степь. Здоровенные «кировцы» пашут снег. Наваливают плотные валки, чтобы подтопленный солнцем снег сошёл не сразу, а впитался в почву.
В канун большого юбилея поднятия целины ваш покорный слуга запустил газетный «фитиль»: -«Создадим авиакоррпункт «Комсомолки»! Будем летать - смотреть, садиться – говорить, вечерами звонить в редакцию – рассказывать.
А там, соответственно, будут печатать. Расчёт был точный, как раз тогда вышел в свет том из трилогии генсека - «Целина».
Итак, каждое утро, наскоро заглотнув в похмельное горло пиалу айрана, мы поднимаемся в небо. Скажу по правде, масштабы содеянного потрясает. Безбрежен горизонт вспаханной земли. Встали новые посёлки, сёла, города.
Вопрос другой, нужно ли всё это? Тысячи переселенцев, сломанных комсомольским энтузиазмом судеб. Заглохшая, заросшая ольшаником пахота в центральных областях и на Северо-Западе…И урожай нынешний - целинный, зачастую, чуть больше посеянного зерна. Наш АН-2 с надписью «Комсомольская правда» добросовестно пашет холодные небеса. Впереди маячат гонорары, ордена. Но, как говорится, плановали – веселились, подсчитали – прослезились…Хорошо хоть комсоргу «Аэрофлота» кажется подсобили с жильём…А уж на инициативу народу налипло - жуть…
Московский самолёт вылетал из Баку в шесть тридцать. Цековский шофёр должен был заехать в гостиницу без четверти пять. Во время он не приехал.
Номеров телефона дежурного по ЦК комсомола Азербайджана и гаража под рукой нет. Билет на самолёт у шофёра. Остаётся надеяться на провидение. Оно является, в лице кающегося, черноусого красавца, в шесть с минутами. Рафик энергически убеждает, что по утрам вылет задерживается - ждут начальства…На последнем развороте к аэровокзалу над нашими головами
случилась трагедия. Грохнулся взлетавший ИЛ-14, как выяснилось тот самый, московский.
-«Вот видишь друг,(Рафик сразу перешел на ты) я тебе говорил, что нельзя уезжать без осетрового шашлыка с «нар-шарабом», поехали к морю- у меня будишь пробовать…Без тебя не улетят!
То было время, когда «Комсомолка» начала животрепещущий спор физиков и лириков. Дискуссия на тему «Брать ли в космос ветку сирени» всерьёз будоражила молодые умы. С хлебом тогда было хорошо в Москве и Ленинграде, а в Калинине и Туле очередь занимали с ночи, предварительно записав химическим карандашом порядковый номер на ладони. Вот тогда-то в середине пятидесятых среди молодёжи стала престижной профессия геолога.
А с ней и песни под гитару у костра - того склада, что и поныне распевают бородатые барды и их воздыхатели. В бесконечных путешествиях по далёким краям, именуемых командировками, я непременно выискивал и «тянул» на страницы газеты неприбранных бородатых ребят-геологов и буровиков- людей,
беззаветно влюблённых в профессию разведчика недр. «Тянуть» бородатых в газету было не просто…Кстати, припоминаю уже много позже случившийся конфликт между комсомольским «вождилой» Тяжельниковым и Головановым, запустившим бородку. Только железная убежденность в своей правоте, спасла растительность на неволевом подбородке Ярослава…Даже великий демократ-первопроходец, Алексей Аджубей каждый раз морщился при виде бород на снимках. Он тыкал пальцем в потолок:
-«Опять эти там будут мне выговаривать. По их мнению, советскому человеку ни бороды, ни песни под гитару не нужны. Ведь там про папу римского и кардинала, что по грибы собралси…А это понимай – про Политбюро!»
И, в принципе немногословный, трезвый Аджубей, «борзел» и заводился получасовым монологом в защиту бородатых.
Не без такого монолога и родилась знаменитая дискуссия про ветку сирени.
Марик повесился в назначенный час. Он сказал Люде: -«Не придешь в десять-больше часа ждать не буду».
Люда задержалась. Ведь сердцу не прикажешь! И вот тело на привязи – к железной спинке теткиной кровати.
Маленький Марик был очень маленьким, хотя и предельно складным. Всё в пропорции. Сразу после войны поступил в Ленинградске нахимовское училище. Однажды в кубрике ребята посмеялись над его росточком. Марк драться не стал, но обозлившись, тренировал своё тело до изнеможения. А чтобы есть побольше белков и углеродов, зачастил дежурить на камбуз. Из
училища Марик ушел с двумя мастерскими званиями: по гимнастике и по штанге. Служить еа кораблях он ростом не вышел, и потому отбарабанил на аэродроме. Служил мало - по соревнованиям ездил. После «дембеля» подался в цирк на Фонтанке. Работал на подхвате в чужих номерах. Там и встретил акробатку Нинку – такую же маленькую, как сам. Больше двух лет они готовили свой номер. Были там акробатика и фокусы, всегда к месту лаяла злая собачка Пиф…Клоунов Городинских приняли на «ура». Жить было негде. Пришлось работать в цирковом конвейере по всей стране. Как -то на гастролях подружились с удивительным гимнастом из Татарии. На трапеции под куполом, без всякой страховки, он делал стойку на одной правой или левой.
Нина вдруг его полюбила. Марик продолжал работать с Ниной, а спали они порознь, по-гастрольному в одной комнате. Вскоре татарин сумел доказать, что он немец. Марик проводил их в ФРГ. Без партнёрши ему пришлось уйти в простой. В Омске нашёл Люду-дылду, вдвоё выше себя. Люду бил муж, а Марик дарил ей цветы. Поженились. Стали готовить «патологический» номер
перевёртыш: он входит в женском обличии, она - в мужеском. Потом одежды падают…На подготовку реквизита и репетиции ушел год. Вскоре родилась дочь. В Марика росточком, а ангельским личиком в немку Люду. Начали работать номер. Успех привел снова на Фонтанку. Тётка умерла, и комнату суд нехотя приговорил Городинским. Вдруг сердце Людки затосковало. Она снова
закурила и перестала умиляться тому, что одевает Марика в детском универмаге. А он поставил контрольный срок…Номер клоунов Городинских по сей день – загадка. Хотя полное описание и видиокассета имеется в Госцирке. А это конкурс клоунов. Марик в полосатой футболке по самому центру снимка.
Ошибается тот, кто думает, что в Кремле евреи только сейчас завелись.
Как же без евреев-то? Я не о Троцком или Свердлове…Есть и, уверен будет всегда образцовый оркестр комендатуры. Дата основания оркестра- восемнадцатый год, когда Владимир Ульянов-Ленин, оставляя за собой облако денатуратного духа, вкатил через Троицкие ворота на совнаркомовском кабриолете. Назначение оркестра – играть марши при разводе караула.
Музыкантов поселили на верхотуру Троицкой башни, благо разводный плац и столовка совсем рядом. Со временем кремлёвская судьба заставила оркестрантов разучить «Сулико» и алябьевского «Соловья». Потом понадобились, во множестве, гимны разных стран, естественно для изысканных ушей гостей и классика пришлась ко двору. Вот тогда-то в Троицкой башне
появились носатые и волосатые…Тут-то харч, форма, да звания Заслуженных шли без разбора граф.
Десять лет в истории не срок. Только не в Российской. Тут, что не день-то новость…Теплым осенним днём к причалу Химкинского речного порта причалил теплоход. Гремит медь оркестров, по ветру полощется транспарант:
«Peace, Мир, Дружба…». Теплоход доставил в Москву, больше сотни американских и советских пап, да мам. К экзотического вида встречающей бросается экзальтированная американка. Она целится фотоаппаратом - хочет запечатлеть всемирное женское братство.
-«Хай!»- кричит американка.
Кавказообразная бабка не сразу догадывается сказать: - «Здравствуй».
Эрудированная мисс бойко варьирует английский, французский, немецкий, польский…И наконец восклицает: - «Шалом!». Слово оказывается ключевым для обеих дам.
Хмурым ноябрьским днём у железных барьеров, огородивших российский Пентагон, остановились автобусы. Дюжие омоновцы, завидя печальных женщин отступают к красным стенам метро « Арбатская». Навсегда разучившиеся улыбаться матери, словно иконы, держат в руках траурные портреты сыновей.
Американская мама давно благоденствует во Флориде, горская поселилась в Ашкелоне, а русские мамы, по-прежнему хоронят своих сыновей. Уже выплакали все слёзы. Горюют молча.
Михаил Тимофеевич, не без гордости мне говорил: -« Надо же! В Пакистане, когда все магазины на мусульманский выходной закрыты, только оружейные лавки торгуют, «Калашниковых» продают». С Михаилом Калашниковым я познакомился давно. Только появился его «АК», как журнал «Советский воин»
нарушил секретность. Уж больно завлекательно было в воспитательных целях, рассказать о старшем сержанте конструкторе. Тимофеич - мужик скромный и не очень контактабельный. Только в легком пдпитии приоткрывает
истомленную думами душу. За свои конструкторские годы в Ижевске он выдал «на гора» автоматы «АК», «АКМ» и еще кучу модификаций, пулемёты «РПК», « ПК», «ПКТ»…А вот бюст установили на площади в глухом алтайском райцентре. Как и положено, по месту рождения дважды Героя Соцтруда.
-« Там ко мне коней привязывают», - плакался Тимофеич.
-« Мне бы памятник по месту работы и жительства!»
Михаила Тимофеевича не радовали даже воинское звание полковника и почётный титул доктора технических наук. Без защиты, конечно.
Живет Калашников в самом центре Ижевска, но квартиру свою недолюбливает.
Сиротливо там без умершей жены и убитой таксистом дочери- балерины.
Он всё больше с внуком на даче. Заряжает из гаража не новенькую «Волгу», а видавший виды «УАЗик»- и шасть подальше от города и завода, на дачу.
Там за высоченным частоколом у него любимые собаки, охотничьи ружья и вообще совсем другая жизнь. Он уже давно свыкся, что его, Калашникова, воспринимают по Маяковскому. Правда, не «человеком и пароходом», а человеком и автоматом… «Калашниковых» наделано больше всего на свете.
Это самое дешевое, безотказное и точное орудие убийства. Моральный аспект Михаила Тимофеевича не тревожит, спится ему хорошо, особенно на даче.
А уж особенно душенька Тимофеича успокоилась, когда президент Ельцин Удостоил его третьей Звезды Героя (теперь уже России) и выдал генеральские погоны. Всё вроде бы хорошо теперь у Тимофеича. Радоваться ему да и только.
Но если увидит на пограничной заставе, в батальоне или полку грязный автомат- хмурится и очень ругает владельца.
-«Тебе « Калашников» доверен – ухаживай, как за барышней!»
Попросту привередничает старик его автомат особого ухода не требует. Он всегда готов отличить не наших от наших и делает это, согласно гарантии
конструктора навсегда.
Ну, а это оружье выдано под расписку Вашему корреспонденту, Илье Гричеру на всё время советско-китайского конфликта у острова Даманский.
Автомат хороший, но слава Богу, стрелять не пришлось…
Хороших футболистов на свете много, а выдающихся –мало. Особенно среди малочисленной гильдии вратарей. В корабельном динамике сквозь треск и завывание запретных миров, голос Вадима Синявского:
-«Наши ворота снова спасает Лев!»
С того дождливого дня на целых четверть века вратарь, а по старому - голкипер, Лев Яшин стал самой яркой звездой футбола. Льва знал и любил весь мир. Ну
так, как сегодня знают и любят Пеле или Марадону!
Мне повезло- лет десять к ряду почти каждое утро мы виделись во дворе нашего двора на Новопесчанной. Неулыбчивый, малоразговорчивый сначала майор, а потом и полковник, Яшин буркал:
-«Здравствуй», - садясь в «Волгу».
Однажды, совсем неожиданно он заговорил:
-«Ты, как к футболу не болельщик? А то приходи в Лужники. В последний раз играю!»
Он сунул мне пропуск.
Стадион то замирал, то стоя дружно ревел - сборная мира прощалась со Львом.
Вскоре он исчез и появился во дворе, наверное, через год.
Лев Яшин неумело передвигался, опираясь на палку. Мы с ужасом узнали, что страшная болезнь лишила голкипера ног. Теперь в память о нём, именем Яшина зовется фонд помощи спортсменам. А снимок «Последний прыжок Льва» висит в музее спорта.
Миша он был прост и честен, как его тёзка из леса. Хорошая, чисто русская душа сочиталась у фоторепортёра Кухтарёва со смекалкой, смелостью и неудержимой любовью к книге. Он, даже переженился на продавщице из лучшего книжного магазина Москвы. Талантами Миша не блистал, зато был исполнителен и надёжен. С Мишей мне пришлось, лет двадцать, теснится в одной кабинке, пользоваться в очередь одним увеличителем. Тут же на доску фирмы «Лейц», частенько выставлялась бутылка венгерского бренди «Будафок» и роскошные кремлевские слоённые пирожки с мясом…Миша вытащил меня в Кремль, дал толчок к поездкам за рубеж. Мы беззлобно завидовали друг - другу, и соревновались. Вскоре Миша стал проигрывать мне, но не держал обид. Совсем наоборот, звал в гости…Во время Пражской Весны 1968года , Миша попал под краснозвездный танк, а после госпиталя на страницы «КП», пристроил снимок груды «калашей», брошенных местной милицией, назвав их- «тайным схроном западных спецслужб». Был скандал…
В один из приездов из Обетованной я позвонил ему. Миша обрадовался, но был уже плох и я не стал его беспокоить. Мы однолетки, а Миши давно нет. Жаль -это страничка «Комсомолки»…
Обычная газетная фотография порой казалась скучной и тогда
я искал иные точки приложения. Снимал с самолёта, нырял и болтался в акваланге с фотобоксом, в водах Иссык-куля, Средиземного, Черного морей и Атлантики…А вот настоящих тяжелых водолазов пришлось живописать только раз – у севастопольских военных моряков. Потому я сходу соблазнился предложением одесситов поглазеть на подводно – технические работы и судоподъем.
Поджарый атлет с чеканным профилем Остапа, звался Леонидом Вайнером, по должности и призванию был водолазом, достойным продолжателем дел знаменитого ЭПРОНа, той экспедиции, что нашла золото легендарного «Черного принца». Лене с братом приходилось работать в Индийском и Тихом океанах, не говоря уж Балтике и кладбище боеприпасов в водах Ладоги…
Крым. Евпатория. Август 1979года. Водолазы обследуют рейд и находят пять самоходных барж, занесённых песком. Опрос жителей свидетельствует, что немецкие самоходки были потоплены «ИЛами» в дни освобождения Крыма.
Поднимать не резон- решено резать под водой…Наш водолазный катер, куда меньше прогулочного теплохода, но места хватает не только для водолазных трубах, медных шлемов и подбитых свинцом башмаков. На палубе кран, компрессор, генератор…В кубрике койки на двенадцать членов экипажа.
Необъятная «кокша» Марья Санна, проживает в ходовой рубке. Все дни её заполнены заботами об украинском борще с пампушками и макаронами по- флотски и компоте без, которого водолазам ни работы, ни жизни нет.
На пятый день работ рядом с катером раздутой рыбой всплыл водолаз. Забыв о телефоне он испугано тянет руки…На дно пошел Леня. Вот тогда
началась эпопея, о которой газеты приученные к постоянному отсутствию сенсаций писали, варьируя знаменитый заголовок «Комсомолки» – «Эхо войны». Несколько часов динамик разносил над палубой сопение Лени и односложные ответы:
- « Ищу, гляжу, соображаю…»
Три баржи оказались дополна забиты миномётными минами и снарядами. Поднимать пришлось вручную. Две недели шла игра со смертью. Ящики на утлом ялике свозили на берег, а оттуда на подрыв…Потом было сразу три выходных и праздник- Лёнин рекорд. Десять тысяч часов под водой. У водолазов часы пишутся, как у лётчиков в специальную личную книжку.
Среди пустынного плоскогорья, на заоблачной высоте тарелки и решетки радаров- высокогорная станция обнаружения « Мургаб». Всё совершенно секретно кроме еды и рыбалки. После шашлыков нам со Славой Головановым оказана высокая честь- вручена удочка и три червя. Больше нет на всей базе. И тех привезли из Оша.
-«Вам и трех хватит» - обнадеживает нас подполковник.
Закидываем и тут же в заоблачной выси, молнией ударяет увесистая рыбина - маринка.
Червяк цел. Ловим по очереди, один забрасывает, другой отцепляет -червяк цел. Спустя час возвращаем командованию базы червя и полное ведёрко маринки…
Тупо смотрю на книжную полку. Уж больно не хочется читать новомодные детективы. Беру Олешу. «Три толстяка» – литература вроде бы детская, ан и взрослым не вред перечесть…Вспомнил Юрия Карловича, его верного собутыльника Веню Рискинда – закадычных друзей моего отца. Забыли Веню, а он остряк со стажем. В 1933, когда пришло время первых чисток его исключили из партии. На вопрос:
-« Кто такие отзовисты, он ответил, что всю жизнь безуспешно гадает, кто они…Про Маньджу -Го доверительно сообщил, что это император Японии.
Молотова он знает, но раз задают такой вопрос, то дело его плохо…»
Отличный сценарист Рискинд заявил:
-«разница между им и голивудским сценаристом Рискиным в том, что у одного лишние «д», у другого - лишние миллионы».
В 1937 году в нашем доме всё чаще звенели стаканы. Пили не с радости, но разве семье оттого было легче?
Весной !951 года, впервые в гражданском, фланирую по Броду – теперь снова Тверской. Меня берут под руки - Юрий Карлович, Веня:
-«Пошли сынок, папу Гришу помянем!» В дом, украшенный рифмой Маяковского о «Моссельпроме» мы идём через дежурный гастроном «Три поросёнка», что у Никтских ворот. В время посиделок я трижды бегаю туда за
«боезапасом»…Вскоре я убыл на зароботки в Казахстан. Уже зимой снова встречаю похмельный лит. дуэт – Веню и Юрия Карловича. Они затаскивают меня в кафе «Националь». Веня заказывает «царский» стол. Я с тоской думаю
о своих зароботках:
-«Плакали мои денежки!» Но платит Веня. Юрий Карлович удивленно щурится: -«Вы, что Веня, взяли сберкассу в Лаврушенском переулке или наконец нашелся американский дядюшка?» Не дрогнув бровью, Веня отвечает:
-« Ах, всё ваша аполитичность, писатель. Не читаете Вы, газет…
Правительство СССР, по личному указанию Молотова, распорядилось немедленно возвратить мне, как ближайшему родственнику дома Романовых, царские долги…» Юрию Олеше не пришлось при жизни насладится заслуженным благополучием. Все денежные переиздания «Трёх толстяков», кинофильм, спектакль случились уже «постфактум»…А про Веню Рискинда - «комете не из этой жизни», помнят лишь те, кто его знал, а нас почти не осталось…
|