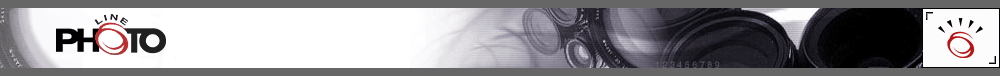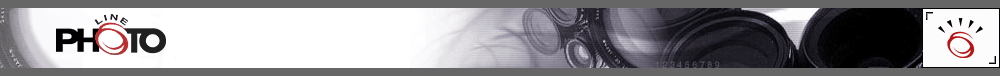|
Почему молодой русский женится на старухе? Невеста видела Ленина - так кончается анекдот о женихах и невестах разных народов. Уж где-где, а в СССР целая гвардия жила за счет лейтенанта Шмидта. Основу этому феномену положили не Ильф с Петровым, а сам Ильич. С его легкой руки некто Брешко-Брешковская была произведена в «Бабушку русской революции». Летчику Россинскому показалось мало реальной крылатой славы. Он собственноручно слепил себе титул, от имени Ленина - «Дедушка русской авиации».
После кончины Вождя, как грибы в дождливый день, росли ряды его ближайших сподвижников по партии. В годы сталинских «воронков» самозванцы примолкли, а уже во времена исторического двадцатого съезда, снова уселись в президиумы. Не знаю стоит ли, до сих пор, во дворе дома на Петровском бульваре бюст Дважды Героя Петрова, с подачи чего-то перепутавшего Никиты Хрущева, объявленного, чуть ли не членом Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Петров близкий тогда к столетию, добросовестно дремал в президиумах и с незамутненной совестью принимал незаслуженные почести и Золотые звезды. Куда, как худо быть на казенных харчах! Не тюремных, а из обильной кремлёвской кормушки! Помнится, наши Главные редактора кормились из расчета девяносто «кремлёвских» рублей. Начальничий водила Петя, загружал багажник ростбифами, икрой, курами, коньяком…Семье должно было хватить на месяц. На всех съездах, конференциях-партийных и комсомольских, союзного масштаба, мы фоторепортёры, допущенные до кормила, сооружали традиционную «нетлёнку» - обвешанные наградами ветераны КПСС с достоинством нравоучают молодых. Так сказать, эстафета поколений. Профессор Петров передвигался с трудом, поэтому постоянным героем наших полотен служил седоусый красавец Виноградов. Журналистам, сбивчиво, намекнули на то, что он не то прототип рабочего Василия из фильма «Ленин в Октябре», не то авроровец и грозный чекист, но, главное уж точно скромный петроградско - ленинградский рабочий, близкий к народу человек.
Уверен, что в городе на Неве паёк был не хуже московского, да и лечсанупровская «четверка» действовала неусыпно. Во всяком случае, Виноградов выглядел геройски, все тридцать лет, предшествовавших перестройке. Нагрузки у ветерана бывали критическими. Апогея занятости он достиг в дни подготовки к столетию Ильича. Бесчисленные группы лучших из лучших снимались тогда в историческом нутре «авроровом». И в центре группы, непременно восседал наш седоусый герой. Столетие закончилось раздачей слонов - бронзовых юбилейных медалей, которые, видимо на нервной почве, генералы и адмиралы принимали на грудь выше орденов.
Потеплело, в Питере - состоялось действо молодежи, посвященное тому же столетию. Тогда-то я сделал снимок на Марсовом поле, среди революционных могил Виноградов зажег факел от Вечного огня и передал его секретарю обкома ВЛКСМ. Роль «дедушки революции» была исполнена по системе Станиславского. Только с бескорыстным долговременным горением сердец неувязочка вышла. Значительная часть новых русских и не русских - выходцы из Ленинского комсомола. Они первыми, вместо факела, схватились за «мани».
Видно не смог им Виноградов толком разобъяснить пагубность «золотого тельца». Вот, что случается, когда вместо вечернего университета марксизма-ленинизма - «Столичную» под «холявную» икру, в сауне с комсомолками жрут.
Подобное действо, названо пролетарским поэтом Маяковским - «Мистерия буф».
Мой друг Андрей Крушинский, наш корреспондент в Китае выдворен на родину. Неделю Андрюша походил в героях, а потом затосковал. Я познакомил его с пограничниками. Те попросили Андрея рассказать о «культурной революции» и в результате, нас командировали на самый «горячий» участок границы, в Благовещенск. Там меня декорировали в майора, а Андрюшу в капитана. Почти месяц, мы при погонах и пистолетах, летали на МИ по заставам. Так родилась статья в «Комсомолке»-«Там за рекой Хунвейбины», которая с подачи тогдашнего секретаря Амурского Обкома КПСС, вызвала негодование самого Брежнева. Во всяком случае нам на разбирательстве так и сказали. Остались чуть живы, но из газеты не попёрли…Много лет мы вспоминали свои пограничные перипетии и, в частности задержание китайского голодного перебежчика. Собственно он сам к нам пристал, услышав Андрюшин китайский. На другой день прилетел вертолёт за нами, а в нем майор- контрразведчик. Майор сразу пресёк атмосферу советско-китайской дружбы и изолировал китайца. В вертолёте были задёрнуты шторки, а «пленному» только по нашей просьбе не завязали глаза. Взлетели. Майор достал карту, открыл шторку и по слогам на русском, стал выяснять:
– «Ты где пе-ре-хо-дил?»
Китаец только мотал головой…Майор допытывался у Андрея, что сказал китаец? Андрей «нахально» хохотал и наконец завил майору, что китаец нем.
Наверное такие шутки и легли в основу поклёпа на нас…
-Лёня, Лёнечка!- кричат наперебой зверю. Он ворочает на зов безшеей головой.
Безошибочно узнав, одному ему понятную хозяйскую интонацию, медведь косолапой развальцей топает в нужном направлении. В жаркий Новороссийск Лёню доставили из заполярной Дудинки. Хоть и за границой Полярного круга, а до царства белых медведей ещё далеко. Иногда в тундровые края за сладкой ягодой морошкой наведывается бурая братия. Вместе с мамашей на морошке попался и Лёня. Мать зарычала, оскалилась клыками и получила пулю. А малышу судьба уготовила сытую жизнь в Новороссийской высшей мореходке.
Парни, соскучившиеся в многодневных практиках на дальних морях и океанах, тащат «до дому»: попугаев, мартышек, крокодильчиков…Так, нарду с задумчивым павлином Коськой, поселился в клетке веселый сибиряк Леня.
С участием Лени постоянно разыгрывался курсантский спектакль- « Ты моряк, Мишка…» В отпечатанной программке значится: в роли моряка Миши-прибрежный бич, Леонид. Короткий спектакль, со всеми возможными медвежьими ужимками и прыжками, горкомовское начальство внесло в программу пребывания на нынешней Малой земле Леонида Ильича. Сам главный герой эпического - мифологического действа должен был приветствовать молодых мореходов… Все бы ничего и устроителям не избежать правительственных наград, но перед прибытием Самого, сообразили, как велика опасность сходства имен. Наверняка Леонида обидит неуклюжий тёзка. Подумали, что не береженного и сам Брежнев не убережёт.
Валя Курносов, всех кремлёвских фоторепортёров начальник и, над соответствующей службой кремлёвской «девятки», командир. Заявляет громогласно: - «Гричер твой бенефис- снимает только «Комсомолка», по тем времена событие, - Леонид Ильич встретится с секретарями Союзов молодёжи стран-гостей очередного съезда ВЛКСМ. Место действия левый притвор Дворца Съездов. Во всю длину кишкообразного притвора стол, за ним разместились секретари. По команде Курносова, счастливцев выстраивают в очередь. Входит шаркающий Ильич. Молча пожимает руки. Приосанивается для снимка… Вплотную к Брежневу, не замечая протестующих жестов Курносова, протискивается рослый кубинец. Сопровождающим вождя цековцам ничего не остаётся делать, как представить Брежневу кубинца. Кажется его зовут Мартинес. Брежнев оживляется, потом после длинной паузы шамкает: -« Когда я слышу Куба, я говорю Фидель. Когда я слышу Фидель, я говорю Куба…» Ильичь победно оглядывает присутствующих, кивает на аплодисменты, а сопровождающие не выключают диктофонов…
Поздняя осень. По несколько раз в день идёт снег, но насовсем не ложится, только на газонах белые пятна путаются с жухлой зеленью. Шлифованный гранит у мавзолея, что каток, обильно политый ледяной мокренью.
Напряженная тихая толчея. Хоронят Брежнева. С трибуны над звездным покойником говорит рабочий, маршал, колхозник, студент…Пауза, молчаливое замешательство. Наконец подняли Генсека, понесли к могиле. Четыре капитана, с крышкой гроба на плечах, торят дорогу в снежной жиже. Вслед грустно топчется Политбюро. Каждый держится за свой участок гроба. Бобровые шапки, пустые глаза, члены ПБ неотрывно глядят под ноги. Скользко. Грустно аж жуть, никто не знает, кто следующий.
Снимающих десяток, по числу руководящих печатных органов и агентств. Разом берем короткий старт к покойному. Успех решают мгновения. Толчок в спину и я скольжу прямо под ноги капитанам - крышконосцам. Обратного пути нет. Молнией мысль - только вперед! Снежная жижа проносит меня между четырьмя парами капитанских ног. Еще не распрямившись, инстинктивно жму на кнопку…Кажется есть вожделенная «нетленка»!
- «Комсомолка», к генералу, невозмутимо вещает полковник в штатском.
-«Нарушаем?», с видимым безразличием, констатирует генерал – лейтенант.
-«Виноват, товарищ генерал, не удержался на ногах».
-«Сам вижу, что скользко. Нет беды. Обошлось, слава Богу! Радуйся, солдат, дважды под крышкой гроба не бывают».
Генерал в прогнозах дока., не даром начальник «девятки»-управления охраны правительства.
В редакции мне, один за другим, звонят коллеги.
-Ты, как снимал? Снизу, тогда у членов глаза должны быть открыты… Дай негативчик, спечатать!
Из Главных редакторов моей «Комсомолки», только Аджубей был старше фоторепортёра Гричера. Правда, всего на два года. Потому Алексею Ивановичу, на его Ты - ответствовал Вы. Даже с юдофобом Валерой Ганичевым, в тропическом лесу острова Куба, довелось шарахнуть из бочки рома «на брудершафт». К возможному вопросу о панибратстве… На людях, с начальством, всегда держал должную дистанцию. Навстречу сорокалетию
Победы я вел персональную рубрику. В конце марта, в холе у лифта, встречаю
Геннадия Селезнева. На пути, до кабинета, получаю добро Главного на задумку:
-«Подай сегодня же бумагу, с описанием идеи и раскладкой затрат.»
Не проходит и десяти дней, как «Рафик» с эмблемой экспедиции «Знамя Победы», увозит меня в дорогу по боевому пути полка, водрузившего красный стяг над рейхстагом. Путь пролег от Псковщины, до Западного Берлина. Материалы печатают с колес. В Москву из Бреста возвращаемся 9 мая. Валя встречает газетой. Там в списке лауреатов премии «Золотое перо» нахожу своё имя. Только через годы узнаю, что Слава Голванов, надоумил Главного представить фоторепортёра на соискание премии для пишущих:
-Илюшка целый год материалы о войне печатал, да и сам солдат-участник, присудят - непременно…
В небе лопались искристые шары фейерверков, плыли лозунги и транспоранты:
PIZ, PAX , МИР. У всех на устах были «Если бы парни всей земли…»,
«Пусть всегда будет солнце…», « Дети разных народов, мы мечтою о мире
живем…» Нет сомнений, мир - дело хорошее, особенно если во всём мире мир! А в это время стреляли по детям в джунглях Вьетнама и Камбоджи, двигались танки по пескам Синая, гремели гусеницы на Карловом мосту в Праге…И везде так или иначе участвовали нашинские - советские.
В том числе журналисты. Пришлось побывать и мне с «Никонами», кое-где кроме острова Даманского. В общем крепил дружбу, как приказывали. И вы знаете, как абсолютное большинство, верил в персты, указующие свыше:
-Эти наши, а те не наши…На Всемирных фестивалях молодёжи и студентов, казалось бы, все были наши, но на бесчисленных инструктажах предупреждали о возможных антисоветских проявлениях. А пока приходилось организовывать зримую дружбу народов.
-Возьмёмся за руки друзья! - кричал я на всех возможных и невозможных
языках. Из фестиваля в фестиваль кочевал бродячий сюжет коллективного рукопожатия. Когда-то в августовской Москве 1957года, у Белорусского вокзала я сообразил и изобразил этот энергичный апофеоз борьбы за мир.
С той поры Главные редакторы, многозначительно почесав затылок, из фестиваля в фестиваль, словно открытие, раздумчиво произносили:
-«Ты, Илья, что – ни будь такое, с рукопожатием сооруди, на первую полосу.
Чтобы белые, черные, желтые были…»
Слева Азия, справа Европа. Большой противолодочный корабль «Очаков» в одну десятую своих возможностей ползет по Босфору. Впереди мосты
между странами света. Старый и поновей. Корабельного режимщика интересует тот, что новей. По бортам расставлены матросы с «Зенитами»- по команде майора начнут снимать. Рассветает, под опорами моста ещё сумеречная парная. Я, с дуру, сочувствую майору:
- «На на низкочувствительной плёнке не снять. Да и вообще, что за секрет опоры. Ведь тут тысячи кораблей проходят?»
« В штабе приказывали снять»- неуверенно поясняет майор. С «Очаковым»
вровень идёт белоснежный катер, на рубке люди с фотоаппаратами.
«Цеэрушники, пусть снимают, подумаешь невидаль «Очаков»- в обед сто лет» - смеётся майор. Я ухожу досыпать в каюту. С такой разведкой корреспонденту центральной газеты общаться соромно.
У берегов Ливии меня пересаживают на учебное судно, идущее в Севастополь.
С каперангом, капитаном судна, оказывается встречались на Балтике. Он бойко нарушает сухой закон и сулит мне сказочную рыбалку. Мы отстаиваемся у острова Лесбос - надо засветло, одним днём, пройти Дарданеллы и Босфор.
Капитан вооружает меня спинингом, кок приносит кастрюлю мяса, а рыбы всё нет. Только толпа офицеров- болельщиков. Зовут ужинать, ко мне подбирается мичман и объясняет безрыбье.
-« Рыба метров за пятьсот от судна топчется – включены ультрозвуковые «пугалки» против подводных диверсантов…»
Я к капитану, тот даёт команду и мне приносят пяток «лимонок». Первую бросает капитан- вода чуть вскипает, а рыбы наверняка смеются…
Кулуары Кремлёвского Дворца съездов. Радостные дети - ни тени волнения на лицах. До построения минута, а там их выход… Кончилась очередная порция речей. Председательствующий, голосом человека, нашедшего белый гриб в
январе, удивленно ликует:
-« Товарищи! Съезд пришли приветствовать пионеры!»
-«Взвейтесь кострами синие ночи…»-льётся из динамиков жизнерадостный марш, вслед звенят фанфары и горны.
-«Дорогие папы и мамы вы собрались на съезд…»
Голоса поставлены по системе Станиславского. Вся страна теперь знает, что растет смена. Что придут новые умелые и смелые сталевары и космонавты, швеи и солдаты…А стали эти пионеры банкирами и коммерсантами…С младых лет росли эти кремлёвские ребята зная, что солдат спит, а служба идет. И думают за них няньки, дедки, бабки, папы с мамой и государство, которое папы
представляют. Вся отборная пацанва училась в особых школах, куда не номенклатурному дитяте, даже для процентной нормы, не попасть.
А уж в Кремль или, тем паче, на мавзолей с цветами- назад с шоколадом и не мечтай. Из школ дорога вела в МИМО, Плехановский, Высшую школу КГБ. Как только свистнули к новой жизни спецовские пацаны первыми подались в «новые русские и не русские».У них «ключ от квартиры, где деньги лежат» с пелёнок в кармане.
Ночь. Лучи фар упираются в очередной снежный намёт. Останавливаемся, объезжаем преграду и снова мчимся без дорог. В горле першит от сухого мороза. Церенжаб снова останавливает газик, что то говорит редактору молодёжки Ревсомола. Тот командут:
-«Взять карабины и по команде… Залпом, огонь!»
Затихает звон в ушах и явственно слышен лай собак. Церенжаб уверенно разворачивает машину в сторону лая. Десяток минут езды и мы в юрте.
Гостеприимство жителей Восточно-Гобийского аймака раскрывается без церемоний. Чай с молоком и курдючным салом. Водка «Архи»- китайскими пиалами. Баранина холодная и горячая. Какой -то, не монгольский, маринованный продукт в банках. Прав был Саша Тер-Григорян, когда говорил на проводах:
-«Главное, Илюша, верблюдов не хвали, подарят - в самолет не поместится.
Монголы народ добрый!»
Но я увидел совсем другую опасность, как предупреждал Ленин, работа здесь оказалась, «Архи» - трудной. Не смотря на отпущенные три месяца, я чтобы не спиться, уложился с фотографями для книги за полтора, и в подаренном мне кожаном пальто отлетел на Родину. Издательство «Молодая Гвардия» было счастливо перевыполнением плана. Книга вышла досрочно. Весь тираж, с подписями под множеством снимков, на русском и английском, преподнесли съезду Ревсомола Монголии. Правда от названия рожденного в недрах издательства, жуть брала. Нашу с Тером книгу, озоглавили «Хадака синее тепло», видимо по ассоциации с крылатым: «Гори оно синим огнём!»
А Монголию мне довелось пройти, проехать, пролететь - еще не раз. Демонстрировал аратам свою фотовыставку, ухаживал за милой «глвврачихой» аймчной больницы, ловил и варил гигантских сазанов на озере Буир-нур…Мне даже «ихняя» медаль досталась.
Все, как в частушке поётся: «Ростов на Дону, а Саратов на Волге, я тебя не догоню, у тебя ноги долги». Уверен, эта байка - про Ростов и про ложь на коротких ногах. Комбайн «Нива»- машина в России известная. О ней, как о знатном покойнике, говорилось только хорошо или никак. Поэтому я ни сном, ни духом, не ведал о каких- либо претензиях к качеству комбайна, искренне искал возможность поднять боевой дух тружеников полей к очередной битве за хлеб. В ведь помните, тогда у нас битвы за все бывали. Вон мол, какая армада машин выстроилась, нарядные, краснобокие «Нивы» так и просятся на ниву. Идея такой публикации получила поддержку дирекции и парткома сплошь орденоносного «Россельмаша». Для реализации задуманного к скоплению комбайнов на сдаточной площадке необходимо доставить пару десятков статистов и, конечно знамя. Рабочие в изобилии бродили на театре
событий. Я весь в фотоаппаратах громозжусь на грузовик с телескопическим
подъемником. Рабочие рукоплещут, а знамя с почетным эскортом дефилирует
взад – назад. Для гарантии Я прощелкиваю все тридцать шесть кадров, потом еще одну плёнку. Великое дело гарантия. Вот её-то и не хватало у новеньких
краснобоких «Нив». Поэтому и заполнили, хвалённые комбайны, всю окраину Ростова – папы, от завода – до горизонта.
Мы знакомы с президентом Татарстана давно. Ментимер Шарипович
Шаймиев и сегодня воспринимает меня не как посланца израильского «Времени», для которого я беру интервью, а только, как корреспондента
любимой им «Комсомолки». Узнав от меня, что «КП» - единственная
российская газета, выходящая в Святой земле час в час с Москвой,
президент заявляет: -«Комсомольская правда» во все времена не изменяла ни читателю, ни имени своему…Поэтому, оставаясь любимой российской газетой, пользуется популярностью и в Израиле».
Пристрастия Шаймиева давние и неизменные. Всё та же жена, те же лошади, та же доступность в общении, то же умение увлечь собеседника. И настоять на своём он умеет «железно». Это ему на роду написано: Ментимер в переводе с татарского- «Я – железо».
Перед спуском под воду боевые пловцы - предтеча будущих спецназов и «Альфы». Сидят, ждут команды и думают каждый о своём…Готов поклясться, что даже самым смелым фантазёрам - тогда в семидесятых, не виделось будущее…
А всё потому, что не с пустыми руками пришли мы ставить привычный ход жизни с головы на ноги- достигли не малого, а перестраиваться враз ой, как трудно! Особенно когда команда дана не четкая…
Уж так случилось, что мне, беспартийному «большевику», довелось больше четверти века крутиться не только по обкомовским кабинетам, но и по коридорам власти, да столовым Кремля. С многими деятелями до перестройки, перестройки и постперестройки меня познакомил комсомол.
Серым нижне - тагильским утром я прибыл в город металлургов и танкостроиелей. Воздух пах не сосной с окрестных гор, а окалиной, ржавчиной и формовочной землёй. Городской котлован желтел серными дымами. В горкоме комсомола я подружился с уважительным парнем - Виктором Илюшиным. Виделись мы на съездах, пленумах и в редких командировках на Урал. Перезванивались и знали друг о друге немало. Виктор не осуждал моих сердечных дел в уральском регионе, а узнав о рождении сына поздравил яшмовой поделкой. Помню Виктора в свердловском горкоме партии и обкоме.
Там-то он познакомил «Комсомолку» с обладателем детской улыбки и седеющей шевелюры - Борисом Николаевичем. Ему, Виктор был верен во всём. Только когда схватившегося за сердце, белого, как полотно Ельцина попёрли с трибуны и всех секретарских постов с пайками и машинами, я встретил
Виктора в «предбаннике» ЦК КПСС. В ответ на моё недоумение, он тихо сказал:
-«Пришлось на время расстаться. Для нашего дела необходимо иметь своих людей в этой конторе».
Белый дом на Пресне. Хасбулатов торопится открыть свою газету «Россия».
Мне светит отличное место члена редколлегии по иллюстрации. В коридоре Против руководящих дверей вижу имя Илюшина. Сидим, пьём чай. Виктор слушает мои великолепные планы, скептически качает головой.
-« Илья, не молоды вы, чтобы родную «Комсомолку» на хасбулатовский «прожект» менять.»
Я с легкой руки Виктора не раз снимал Бориса Николаевича, тогда человека простого и доступного. А потом Виктор не выдержал конкуренции…
Ждут приказа подводные бойцы. Думают о своём. Работа у них и сегодня не сахар…А впереди для их сыновей, Афган и «черный тюльпан» - любимый цветок руководителей до перестроечной Родины.
«На Кавказе есть гора - вай какой большая»,- поётся в старой застольной.
Известность горы Стрежимент сродни Казбеку. Обе вершины на этикетках. Только в отличие от папирос, стрежиментовы символы покруче. Скрещенные Пистолеты и чернильница с гусиным пером. Может намёк на известное письмо султану? Хотя терское казачьё туркам грубых посланий не подписывало. Тогда может предвидение чеченских перестрелок и переговоров? Гора Стрежимент на
Ставрополье невысока и славится не снегами, а травами-эндемиками. На травах настаивают водку, известную лишь партийно-советским работникам, иностранцам и редким гурманам. В бытность свою руководящим комсомольцем, известный борец с алкоголизмом М.С. Горбачев наливал
«Стрежимент» гостям, да и сам не брезговал. Была даже комсомольская «домушка» на границе с Краснодарским краем для приёма внутрь, среди ковров, в прохладе пруда с лебедями. Вот там – то мне довелось впервые отведать знаменитый казацкий суп – шулюм, на закусь к «Стрежименту».
Юрий Черниченко тоже знавал Михаила Сергеевича с далекой стрежиментной поры. Опальный тогда «правдист», дока в теории нелегкой крестьянской доли:
Слушал, поправляя, да наставляя по возможности, будущего первопроходца новой эры. Вот и в девяностом году, первыми взялись мерятся на кулаках президент СССР и председатель Крестьянской партии России. Примерялись-мерились, да , видно, без «Стрижемента» дело не шло.
Как-то довелось видеть Горбачева с женой и внучкой в Тель-Авиве. Михаил Сергеевич по прежнему витийствовал. Раиса Максимовна оглядывала зал. Кивнула мне. Я подошёл, приложился к руке:
-«И вы здесь? С внучкой запечатлейте в святом краю!»
-«Вы, что это целоваться лезете?»- громовым шепотом, рявкнул посольский
человек. – « Что всё не унимаются?» -Раиса грустно взглянула на поборника нравственности. Запечатлеть чету у Стены плача я не смог. Не нашлось места в машине…
Кто знает от чего главный вред Московскому Кремлю происходит?
От сизарей-голубей диких. Денно нощно они гадили на исторический белый Камень и скрепленный гоголем – моголем красный кирпич. Долго ли коротко думали чекисты, советовались, как быть с гуано. Выход пришел одновременно
сложен и прост- Кремль от напасти, должны спасти соколы. Даже должность соколятника, в отличии от царёва сокольничего, заведена. Поутру, когда Кремль пуст по брусчатке вышагивает парень в комбинезоне. На согнутой руке сыромятная рукавица до локтя, а на ней впился когтями сокол. Завидит солдат голубей – снимает соколиную шапочку, и неповоротливым красавцам конец. Впрочем голубиные стаи, что крысы, - не в Кремле, а на помойках за комерческими палатками. Им там вольготнее и сытнее. На смену
голубям в Кремль слетелось вороньё. Птицы хитрые, нахальные, сильные. Тут уж соколу невпролаз. Эта фотография почему - то была воспринята тогдашним начальством, как нежелательный символ. Стояла она битых два года на редакторской полке. И вдруг я увидел её во всю ширь первой полосы. Осенью 1993-го, когда в Москве стреляли. А потом печатали ещё и ещё. Может и впрямь вороньё над Кремлём – символ?
В холле «Комсомолки» со времен двадцатилетия Победы у стены бронзовая стела – дар бывшего командира разведроты гвардии старшего лейтенанта Эрнста Неизвестного. Он стелу вылепил, а комсомольцы- добровольцы отлили и закрепили на неё имена шестнадцати журналистов газеты не вернувшихся с войны. Место это в редакции святое. Эрнст отъехал в США. В холле затеяли ремонт – и на новой покраске дарственной таблички уже не было…
Потом наш мартиролог постоянно ширился, хотя и на стелу имена не попадали.
В общем правильно не попадали, хотя иные имена достойны доброго слова не только в силу традиции…На армейском МИ-6 сгорел кавалер ордена Красного
Знамени ветеран газеты Карл Непомнящий. Под занавесь афганской афёры, двадцатипятилетний любимец редакции, многодетный, Саша Серетарёв «схлопотал» посмертно Красное Знамя. Он на ходу высунулся с «Никоном» из люка БТРа, а водитель не справился с управлением…Генерал Громов решил «по суворовски»: Секретарёва к награде, водителя под трибунал.
В подъезде дома, где жил деятель «Главмосстроя», бывший комсорг КамАза мой друг Юра Титов, лежал с простреленной головой Володя Комиссаров его «мальчик за всё», а сам Юра «удостоился» четырёх пуль в грудь. Когда они
Приехали в Москву именно я, сдуру, привел их в «Комсомолку» и тогда года на
два, улыбчивый тихарь, Комиссаров осел у нас в фотолаборатории.
За свободомыслие и бескомпромиссность в спорах с мусульманскими
максималистами у двери родного дома расстреляли из «калаша» бывшего лучшего собкора нашей газеты по Средней Азии, обаятельного умницу,
Отохона Латифи. К мартирологу можно смело приписать бывшего секретаря ЦК ВЛКСМ Дмитрия Филиппова «замоченного» в Питере. Журналистам «Комсомолки» беспрестанно приходилось с ним встречаться не только в кабинетах ЦК и в газете, но и на молодежных стройках. Я вместе с Дмитрием в Георгиевском зале Кремля получал медаль…
ФОТО No55
Ходил в Казани трамвай - весь наряженный, расписной. Назывался трамвай «Афганец». Гремящие вагон, по истертым рельсам, водили ребята в
камуфляжных робах. В вагоне на ящиках касс, кроме стоимости проезда,
написаны имена погибших земляков. Пассажиры опускали в прорезь не положенные гроши, а кто сколько может- в помощь сиротам и инвалидам
непопулярной войны. Те, кто «Краткий курс ВКПб» застал- помнят Марксистско -ленинско- сталинский тезис: « Войны бывают справедливые и несправедливые…» Может и так, только уж именно афганская авантюра посеяла в Союзе все то, что и доселе никак не пожнут. Давно не грохочет на стыках вагон « Афганец». На казанском кладбище, куда свозят погибших в
последних войнах, в печальном строю сотни новых могил. Только сменился стандарт :- вместо красных звезд дозволено ставить кресты.
Правда во избежание межнациональных обид татарам и евреям по -прежнему зажигают звезды. Пусть горят, кровавые, по соседству, на вечную память погибшим за интернациональные и иные долги.
Пусковые установки морских ракет на военном языке звучат совсем мирно - контейнеры. Вот на этом то контейнере, стрелявшем с борта ракетного крейсера « Адмирал Головко», одним щелчком «Никона» я заработал ведро витамина «Ш». Было это на Белом море. Оно и впрямь белое-белое, Белой ночью, да ещё в молоке тумана…Корабельные артиллеристы- ракетчики задавались, заводчане и ученые волновались.
По утру предстоял первый испытательный пуск модернизированной ракеты «вода-вода». Ей было велено, пролетев до заданного квадрата двести километров, найти и поразить дрейфующую баржу-самоходку.
Как и положено на время пусков, всех попросили за броню. Исключение сделали кинооператору ВМФ и фотокорреспонденту « Комсомолки».
Подробным инструктажем объяснили возможные пути «отхода»
в случае аварии. Рёв движка описать не возможно, да и короток больно.
Что-то бабахнуло, поперхнулось, выскочило и кувыркнулось прямо под корпус « адмирала». Я сдуру успел нажать на кнопку. Оператор, морской профессионал, почуя нештатную ситуацию не стал тратить плёнку. Возникший вопрос: «Кто виноват»- мог, объективно, решить только снимок. Условия для проявки отличные – гальюн с умывальником. Я проявлю, сушу вентилятором, печатаю, а начальство в трюмной неустроенности, под дверями переживает. Наконец всё ясно- один из двух стартовиков не дал огня. Честно заработанное ведерко витамина я поделил по джентельменски: пополам - тем и этим. А витамином «Ш» на военном флоте зовется спирт, предпочтительно не
свекольный, а хлебный ректификат…
Отстучали отбарабанили и новым символом эпохи стали не парадные кимвалы с цимбалами, а плачь, да выстрелы под гудки джипов «Пажеро», нищета и пьяная похвальба краснопиджачных. Есть ещё противоречивые речи и заявления думских «дьяков»- лучших сынов и дочерей многострадального чемпиона по терпению, необъятной страны.
Не подумайте, что я плачу о прошлом! Уж кто- кто, а специальный корреспондент центральной газеты, весь в разъездах и разлётах всё видел, всё понимал, но зачастую отмалчивался, как немецкая овчарка. Хочешь кушать - молчи, не кусайся. Подкусывать конечно можно, но не до крови, только зубы показывать. Итак уже «нолит стакан», бухает барабан – идёт праздник, как все совковые, со слезою на глазах. Почему сморщился ветеран? Почему рищуренный глаз вдаль смотрит? Видит ли он то, о чём говорено- переговорено, а всё недоговорено, и вспоминается, да вспомнится ли?
Наш ветеран не утопист, да и город Волгодонск построенный зэками, не «Город Солнца». Итак, барабан отбивает такт, гремит марш победителей. Всё хорошо в
краю ростовском у самого рукотворного Цимлянского моря, где где на крючок с мамалыгой клюёт бронзовый лещ, а в сети попадаются сомы весом под центнер. Расправил грудь ветеран, гордится своим «Атоммашем», красным игристым «Цимлянским». Но отстучали, отбарабанили, осталось лишь дорогущее «Цимлянское» на экспорт и может лещи, а «Атоммаш», так и не родив реакторы, отдал Богу душу. Как БАМ, как целина, как реки повернутые
вспять…Надеюсь, что жив и здоров курилка, старый барабанщик пьет свой стакан и, щурится на внуков и правнуков. Им самим выбирать цвет пиджаков и наживку на лещей.
Лязгают дверные замки и запоры. Позади все десять решеток в обычный кирпичный дом. Это не агитпункт учреждения строгого режима, а служебное здание. Здесь живут хорошие мастеровые зеки, здесь комната для свиданий.
Коротко остриженный сорокалетний дядёк умилён донельзя. Завидя фотокамеру, он на мгновение немеет, затем его ручища, в синих разводах Татуировок, вновь гладит голову дочери. Семья зека окончательно получает «добро» на длительное свидание. Муж жена и дочь удаляются в комнату с занавесками на зарешеченных окнах. Там им быть вместе целые сутки. Одни сутки за год, одного года из двенадцати. Если не тысячу «если», которые могут помешать и сокращению срока заключения, и очередному свиданию.
Обнявшись они идут по коридору, и нет им дела до зоны, до всего
постороннего мира, где тихо звенят иглами сосны и шепчет заиндевелая плакучая вязь берёз. А до внешнего мира и там далеко. Зона в зоне – Дантовы круги. Свитая в спираль проволока-колючка, нахальное вороньё на проводах высоченного частокола. Стенгазеты и лозунги – сентенции « Труд облагораживает человека», всепогодные призывы: « Встретим ( выборы, Первомай, Победу ) новыми трудовыми успехами!» Черные ватники с порядковыми номерами, где сердце. Грязные треухи и козырястые картузы.
Руки по швам и ленивое, злоё цыканье охраны. Серые, небритые лица, похожие на картофелины.
Лагерей мне довелось видеть много: и в Европе, и в Азии, но вспоминаю только один – строгий, тот, что километрах в десяти от удмуртской станции Можга.
Вот уж не знал, что бывают аплодисменты - «захлопушки». Видимо их изобрели в Кремлёвском Дворце съездов специально для Андрея Дмитриевича.
Он стоял на трибуне у выключенных руководящей рукой микрофонов и вглядывался в зал. Раздраженный Горбачёв, приказным тоном, просил депутата Сахарова покинуть трибуну. А тот, всё же дочитал листок заявления и, сгорбившись, устало прошёл к своему месту. Зал, топал ногами, улюлюкал,
свистел…Как могли «народные витии» понять, простить?
-«Этот академишка утверждает, что нашим парням в Афгане, войнам-интернационалистам, крепко доставалось от собственных снарядов и бомб.
Доставалось и не раз, сам по Отечественной знаю. Вот только трофеи не для всех, а уж бед на войнах сполна хватает. С трибуны Сахарову были видны:
Сумгаит и Тбилиси, Вильнюс и Сухуми, Карабах и Чечня…Он не знал, что делать, но видел далеко вперёд и предупреждал…Злость распирала Горбачева.
После выступления инвалида-«афганца» Червонописского он объявил внеочередной перерыв.
В буфете мне посчастливилось занять место за столом. Поставил кофр с аппаратурой рядом с чьей-то папкой и бросился за слоёнными пирожками для дома, для семьи. Вернулся с пакетом, а рядом на пустынном островке буфетнойплощади распевает чаи большеголовый, лысый человек- Сахаров с трибуны. Я
растерянно поздоровался. Тот близоруко улыбнулся и проскрипел в ответ :
-«Приятного аппетита!».
В коридоре «Комсомолки» я напоролся на Главного. Владислав Александрович без обиняков потребовал не тянуть на страницы газеты Сахарова. Ткнул пальцем в потолок: -«Звонили и не раз!» А через пару дней недавнего нижегородского узника свезли в Дворец молодёжи на Комсомольский проспект.
Прощаться приходил сам Горбачёв. Соболезновал Елене Боннэр…Правда, вернуть три Золотых звезды Героя, отцу советской водородной бомбы, первый и последний президент СССР, впопыхах забыл. А со мной снова говорил Главный:
-«Илья, ты повнимательнее разберись в плёнках. Найди Сахарова
повыразительнее. Надо же, такого человека погубили! Будем освещать биографию».
Фронтовые награды артиллериста Солженицына скромны. Звезды Солженицына -его книги. Пронзительно честные в своей документальности пережитого. Недавно я видел его у нас, в Голубом зале « Комсомолки». Александр Исаевич объективно признает, что в его возвращении на родину из заокеанского Вермонта, решающую роль сыграло опубликование газетой краеугольной проблемной статьи «Как нам обустроить Россию». Но нет пророка в своём отечестве…Статью напечатали, билет сам на самолет купил, а Россию так и не перестроили и даже не обустроили. И вот налицо трагедия великого писателя, со славой которого при жизни, и Толстому не сравниться. Объехал Александр Исаевич все долы и веси: от Москвы до Владивостока и обратно. Говорил, что видел, а видел всё и говорил очень правильные слова. Я смотрел на то, как пытливо вслушивается, буквально всматривается в души телефонных собеседников великий Солженицын. Смотрел на него и думал, что у человека,
победившего войну, годы изоляции, лагеря, отчуждение-канцер и карцер, -нет теперь силы объять необъятный характер своего народа.
Характер, годами унижений, обмана, гонений и воровского разврата- сломанный, изгаженный и испорченный. Откуда Солженицыну идеализирующего лапти, Александра 2, Столыпина и Иверскую божью матерь, знать, что нынешнее казачество само себе цепляет на грудь алюминиевых «Георгиев», а в подмосковной деревне занюхивают « белую» грязным рукавом или аргентинскими бананами, которые чуть дороже картошки -«синеглазки».
Что на земле, моя жена , кандидат химических наук, добивалась куда больших и лучших урожаев, чем соседи- маститые огородники, крестьяне в десятках поколений. Что соседка Михайловна, постоянно выражая восхищение Валентиниными успехами в выращивании помидоров, огурцов, лука, клубники,
чеснока и картошки, не говоря уж о разнообразных травках, регулярно обсчитывала, продавая нам молоко. А перед нашим отъездом позарилась на яблони, кусты малины и облепихи бурно произрастающие вдоль «пограничного» забора. Поползновение на перенос забора еле успели пресечь.
Что деревня десятилетиями, с утра до ночи тянет всё, что плохо и хорошо: лежит, стоит, бегает и летает. А по традиции постоянно завидует городу. Вот когда один из «дачников», владелец дипломатического паспорта, начал выбивать кирпичи из фундамента церкви Николы, покровителя нашей деревни
Сетки, на реке Медведица в Тверской области, прибежала Михайловна ко мне, нехристю.
-«Спаси и сохрани, Григорич! Обереги святой храм! Ведь ты из «Комсомолки»…
А уж по поводу Вас, Исаевич у земляков особое мнение: - « Отчество, какое то подозрительное!» Прослышав с экрана о Вашем приезде, деревня дружно решила: «Сидел бы Солженицын в своем Израиле, да не мутил бы честной народ!
А то разъездился больно. На чьи это денежки раскатывает?»
Кто может похвастать, что пил водку на «Авроре»? А я пил, да еще в кубрике, где октябрьской ночью семнадцатого дебатировалось решение-«стрелять или не стрелять по Зимнему». Огорчу сразу сторонников Маяковского, «фактический факт» - по дворцу
«шестидюймовка авророва », не стреляла. Военно-революционный комитет крейсера, шестью руками против пятерых, голосовал за холостой выстрел. Стёкла в Зимнем действительно вылетели - совсем рядом бабахнуло.
«Аврора» навечно в строю, корабль-музей: царского, красного, теперь российского флота.
Снова о водке. Апрельским утром семидесятого, в самый пик подготовки всего советского народа к столетию вождя и учителя, я осуществил «дерзкую» журналистскую мечту - «апофигей» выпендривания молодёжной печати- фитиль всем, всем, всем! В глубокой тайне я подготовил и осуществил, на продуваемой невскими ветрами тиковой палубе соучастника Цусимского боя, вручение комсомольских билетов нахимовцам-тем, что рядом с причалом крейсера постигают искусство защиты Родины, пополам с грамматикой и математикой.
Закоченев на палубе, ветераны службы на не плавающем бронированном символе революции, добыли из-под пальто пару бутылок. Пир был дан в «том самом» кубрике, под закусь из матросского котла. То ли харчь был не слаб, то ли тренировка сказалась - водки не хватило. Гонец-мичман мигом принес третью и, по моему, пятую. Ветераны стали, на повышенных тонах, выяснять, кто, когда служил на крейсере…Командир, он же начальник музея, шепнул мне, что годы идут, а число «сынов лейтенанта» только прибывает. По штату должно прослужить три тысячи, а в списках уже семь…Ну совсем, как таскавшие, одно кремлёвское бревно, с Ильичем! Вскоре после выпивки «Аврору» от моста, конечно имени Шмидта, сволокли в Кронштадт, где в пылу реконструкции все обновили и изгадили. Через пару лет, опять волоком, крейсер прибыл к мосту. Машины заменили бутафорией, дно залили бетоном…
Так - что, проект добычи валюты в плавание по чужим портам, утопили в Неве.
Я, по-прежнему, гостевал на крейсере. По воскресениям, отмечал командировки большой печатью с надписью: «Ордена Октябрьской Революции, Краснознаменный…». Попрощался с любимой «Авророй» в октябре 1994 года.
Маршем «Прощание славянки» теперь «лабухи» встречают заезжих финнов. Свои музыку не заказывают- слушают, но не платят.
|